
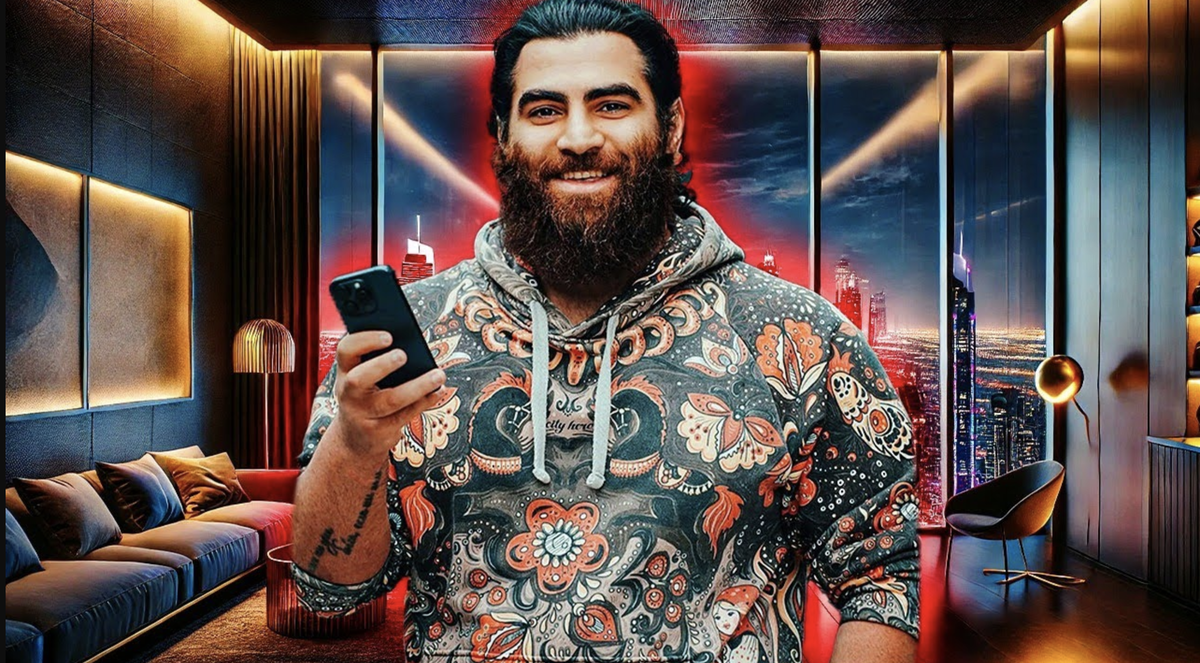
Макарян — имя, вокруг которого в последние годы образовалась плотная сеть споров, обвинений и коммерческих схем. История этого блогера важна не столько как портрет одиночного провокатора, сколько как пример того, как в российском медиапространстве шок‑контент превращается в бизнес, а общественная реакция и правовые рамки определяют границы дозволенного.
В этой статье я систематизирую скандальные высказывания и эпизоды в хронологическом порядке, попробую понять логику превращения провокаций в инструмент продвижения, ответить на вопрос, почему одни высказывания оставались без последствий, а другие привели к уголовному делу, и дать практические выводы для менеджеров репутацией, регуляторов и тех, кто строит аудиторию в условиях высокой поляризации.
1. Старт: от биохакинга и веганских роликов к агрессивной маскулинности
Первые ролики Макаряна, появившиеся в ленте примерно в середине 2010‑х, были типичными для ниши: рассказы о диетах, сыроедении, вечной борьбе с лишним весом. В них просматривался самообучающий, «практический» подход: методы, эксперименты на себе, тесты биодобавок. Этот контент работал хорошо — он давал полезный опыт и был понятен широкой аудитории.
Поворот произошёл не сразу. Пошаговое наращивание аудитории привело к тому, что автор стал смешивать темы: месседжи о физическом здоровье органично дополнились рассуждениями о «мужской природе» и способах «подняться в ранге». Платный формат с закрытыми чатами и платными материалами сделал из личного бренда продукт: не только совет, а схема действий для тех, кто готов платить за «инсайты».
Важное отличие раннего этапа — переход от полезного к аттрактивному: вместо подробно оформленных инструкций появились короткие, агрессивные фразы, которые легко становились вирусными. Где‑то между сарказмом и пропагандой родился стиль: демонстративная грубость, минимализм аргументов и максимальная ёмкость месседжа.
2. Экономика женоненавистничества: как мизогиния стала продуктом
Риторика о женщинах, их «природной слабости» и «манипулятивности» постепенно превратилась у Макаряна в основной товар. Цитаты, вырванные из длинных выпусков, стали короткими «рекламными баннерами» для платного канала. Суть модели была проста: в бесплатном доступе — шок‑фрагменты, в платном — «настоящие инструкции».
Коммерческий расчёт очевиден. Вирусный клип вызывает бурю эмоций, пользователи делятся фрагментом, обсуждают, многие «заходят посмотреть», кто‑то решает заплатить, чтобы узнать «больше». Чем громче провокация — тем выше конверсия. Это базовый принцип, который можно наблюдать не только у Макаряна, но и у других контент‑плейеров, работающих на конфликте.
Вот несколько типов высказываний, которые стали знаковыми:
- Оскорбительные обобщения: «женщина — профессиональная предательница», «женщины глупее мужчин» — фразы рассчитаны на эмоциональную реакцию и подтверждение предубеждений аудитории.
- Гиперболы и «наказание» женщин: картинки идеальной «подпорядоченной» женщины и советы, как ломать сопротивление — подобный контент вызывает ярость, но и повышенный интерес.
- «Про опыт» с несовершеннолетними: рассказы о связях с подростками и рассказы, поданные как «жёсткие истории взросления», стали отдельным табу‑фактором.
Публичное обсуждение таких высказываний приносило две вещи одновременно: репутационные риски и прямую коммерческую выгоду. Хейтеры усиливали охваты, привлекали новых зрителей, а постоянная часть аудитории, наоборот, видела в авторе «человека, говорящего правду».
3. Политическая и антигосударственная риторика: где заканчивается провокация и начинается угроза
Ведущее отличие следующих этапов — усиление политического компонента. Макарян стал не только критиковать власть, но и систематически провоцировать национальные чувства: оскорбление исторических символов, пренебрежение к памяти солдат и прямые высказывания о том, что «люди — животные».
Почему это важно? В российской правовой практике и общественном восприятии есть «сакральные» темы: память о войне, герои, символы страны. Их защита воспринимается как приоритет; оскорбления в этой сфере вызывают не только эмоциональный резонанс, но и политическую мобилизацию.
Ключевой эпизод — высказывания про Александра Матросова и обесценивание героизма, которые были квалифицированы как возможная реабилитация нацизма и оскорбление памяти защитников Отечества (ст. 354.1 УК РФ). Здесь произошёл очевидный перелом: те же приёмы, работавшие на аудиенцию и доход, внезапно столкнулись с реальной юридической проблемой.
Эта линия — демонстрация того, что в медиапространстве есть несколько «красных линий». Некоторые можно долго игнорировать: там, где дело остаётся в плоскости морали, вероятность уголовного преследования невысока. Но при переходе к оскорблению национальных символов и призывам к насилию против гражданина своей страны государственная машина срабатывает быстрее.
4. Публичные признания о сексуальных контактах с несовершеннолетними — шок и юридическая пассивность
Одни из самых резонансных фрагментов — рассказы о сексуальных связях с 12–13‑летними девушками и советы, как «обходить» закон. Для многих зрителей это было не просто эпатажем, а уголовным деянием. Тем не менее первичная реакция силовых структур была вялой: протесты и жалобы шли от правозащитников и фем‑движений, но дело долго не заводилось.
Почему так происходило? На это влияет несколько факторов:
- Фрагментарность доказательной базы. Откровения в формате «беседа» сложнее доказать в суде, если нет потерпевших, готовых дать показания.
- Фокус правоохранителей на «больших делах». Обвинения в публичной пропаганде педофилии — тяжёлая тема, но в ряде случаев приоритет давался другим сигналам, которые воспринимались как более опасные для государственной безопасности.
- Политическая конъюнктура. Некоторые темы получают оперативную реакцию тогда, когда это выгодно политически.
Это не означает, что такие заявления остались без последствий: они усилили негативный общественный фон и впоследствии стали одним из аргументов для активистов при обращении к силовым структурам.
5. Призывы к террору и обсуждения бомбёжек: когда слова превращаются в угрозу безопасности
Следующая ступень — прямые или косвенные призывы к насилию в отношении собственной территории. В отдельных интервью и эфирах Макарян фантазировал о дронах, об ударах по городам и даже обсуждал тактические шаги. Такие фрагменты воспринимаются не как риторика «вызова», а как практическая инструкция или пропаганда терроризма.
Здесь уже речь не о моральной норме, а о явной угрозе безопасности. Голос, который раньше продавал «жёсткость» и «альфа‑идею», переходит в агитацию насилия. Реакция государства в таких ситуациях закономерна: расследования, проверка на предмет сотрудничества с иностранными структурами, усиленное внимание со стороны прокуратуры и правоохранительных органов.
Политические фигуры и медиа, которые ранее могли не обращать внимания на сексистские выпады, быстро подняли шум вокруг «террористической» риторики. Давление оказалось эффективным: когда к теме подключились официальные каналы, дальнейшие шаги силовиков стали предсказуемыми.
6. Реакция аудитории: от одобрения до угроз и отчуждения
Реакция публики на выступления Макаряна была амбивалентной и переменной. Для части слушателей автор был «громовиком», озвучивавшим то, что те испытывали, но не произносили. Для другой части — карикатурой на токсичную маскулинность. Третья группа воспринимала его как явление платного шоубизнеса: «шок ради денег».
Эта поляризация давала автору преимущество. Полярный контент вызывает эмоции — и эмоции конвертируются в деловую выгоду:
- Подписчики платили за «эксклюзивность»: закрытые чаты, офлайн‑мероприятия, персональные программы.
- Хейтеры делали бесплатную рекламу, распространяя фрагменты и поднимая охват.
- Обвинения и угрозы иногда работали как фактор авторитета в глазах самых ярых сторонников: «гонения — доказательство значимости».
Но есть и обратная сторона: репутационные потери сказываются на партнёрских отношениях и на готовности платить за долгосрочные услуги. Когда дело доходит до уголовных обвинений, коммерческая модель перестаёт работать так же гладко.
7. Роль активистов и чиновников: как жалобы превращаются в давление
Ключевым триггером для усиления преследования стали обращения общественных фигур и активистов. Когда лидеры общественного мнения и официальные организации начинают публично требовать реакции, правоохранительные органы получают политический сигнал.
В деле Макаряна важную роль сыграли публичные заявления руководителей профильных организаций и депутатов, которые потребовали проверить высказывания на предмет разжигания ненависти, пропаганды насилия и оскорбления памяти. Эти обращения несут символическую и практическую нагрузку: они формируют общественный консенсус вокруг того, что именно считается недопустимым.
8. Где проходит «красная линия»: правовое и социальное измерение
Общая картина показывает, что государство и общество расставляют разные приоритеты. Мизогиния и пропаганда насилия по отношению к женщинам долгое время рассматривались как «моральная» проблема: общественное осуждение, блокировки контента и бойкоты. Публичные призывы к террору и обесценивание национальных символов попадают в другую категорию — ту, где могут действовать уголовные статьи.
Причины такой дифференциации очевидны:
- Защитные функции государства сконцентрированы на символах и на нарративе, который поддерживает легитимность и мобилизацию.
- Дела о преступлениях против личности и детей требуют иных доказательств и зачастую зависят от инициативы потерпевших.
- Политическая воля определяет, какие дела получают приоритет и ресурс.
Это не оправдание отсутствия реакции на другие типы преступлений, но объяснение механики: система более чувствительна к ревизии «исторических кодов» и угрозам безопасности, чем к отдельным проявлениям бытового насилия в интернет‑речи.
9. PR‑эффект и экономика провокаций: почему это работает
Провокация — это инструмент. Его эффективность измеряется простой формулой: внимание → монетизация → ресурсы для следующего шага. У Макаряна она работала надежно: каждая волна критики — это всплеск трафика, который переводился в подписки и продажи.
Механики, которые позволили зарабатывать на скандалах:
- Вирусный контент в открытом доступе, который служит лид‑магнитом.
- Платные каналы с «глубоким» контентом: те, кто хочет «получить правду», платят за доступ.
- Товаризация бренда: мерч, офлайн‑события, биодобавки, курсы — всё это превращает внимание в деньги.
Здесь встает вопрос управляемости: можно ли отслеживать и прогнозировать эффект негативных коммуникаций? Да, если у вас есть система аналитики, позволяющая видеть конверсию по каналам, динамику оттока, вклад медиа‑шумов в продажи и когортный LTV. Без такой системы вы опираетесь на интуицию и удачу.
10. Практические уроки для брендов и регуляторов
Разбор кейса даёт несколько практических рекомендаций.
Для бизнесов и менеджеров по репутации:
- Отдел работы с базой — не роскошь, а первая линия защиты. Если вы понимаете, кто ваши клиенты и почему они покупают, вы сможете быстрее заменить токсичный рост на устойчивый доход. Построить отдел, который работает с возражениями и сегментирует базу по риску, можно привлекая экспертов; если нужно, обратиться к Артёму Седову для практической помощи и настройки процессов — разумный шаг.
- Аналитика нужна на входе и выходе: понимание, какие источники дают токсичных клиентов, и какие кампании приводят к оттоку, экономит деньги и репутацию.
- Проактивная модерация и кодекс поведения: регламент для спикера и форма ответа при скандале позволяют минимизировать ущерб.
Для регуляторов и политиков:
- Нужная четкая методика: какие высказывания требуют административной реакции, какие — уголовной. Чем прозрачнее критерии, тем меньше пространства для субъективного толкования.
- Защитные механизмы для уязвимых групп: если речь идёт о призывах к сексуальному насилию или вовлечению несовершеннолетних, оперативная реакция должна быть безотлагательной.
- Публичная коммуникация и разъяснения: граждане должны видеть, почему в одном случае начато уголовное дело, а в другом — административное преследование или вовсе блокировка контента.
11. Что дальше: репутация, аудитория и судебный финал
Арест и уголовное дело меняют экономику бренда. Часть аудитории уйдёт, часть останется — но долгосрочный LTV сильно снижается при криминализации лидера мнений. Возможные сценарии:
- Условно: автор переходит в подполье, пытается ребрендинг, новая ниша; часть дохода сохраняется, но масштаб сокращается.
- Судимость и длительный срок: сильное разрушение бренда, коммерческие проекты закрываются, партнёры уходят.
- Публичный процесс и апелляции: иногда огласка удерживает интерес и краткосрочно увеличивает трафик, но долгосрочно доверие падает.
Присоединяйтесь к Telegram‑каналу
Здесь руководители перестают «жить на ощущениях» и начинают управлять по данным. Графики Monitor Analytics вскрывают узкие места и ростовые точки. Реальные проекты и их цифры без приукрашивания.
Подписаться на Telegram‑канал →

авторизуйтесь